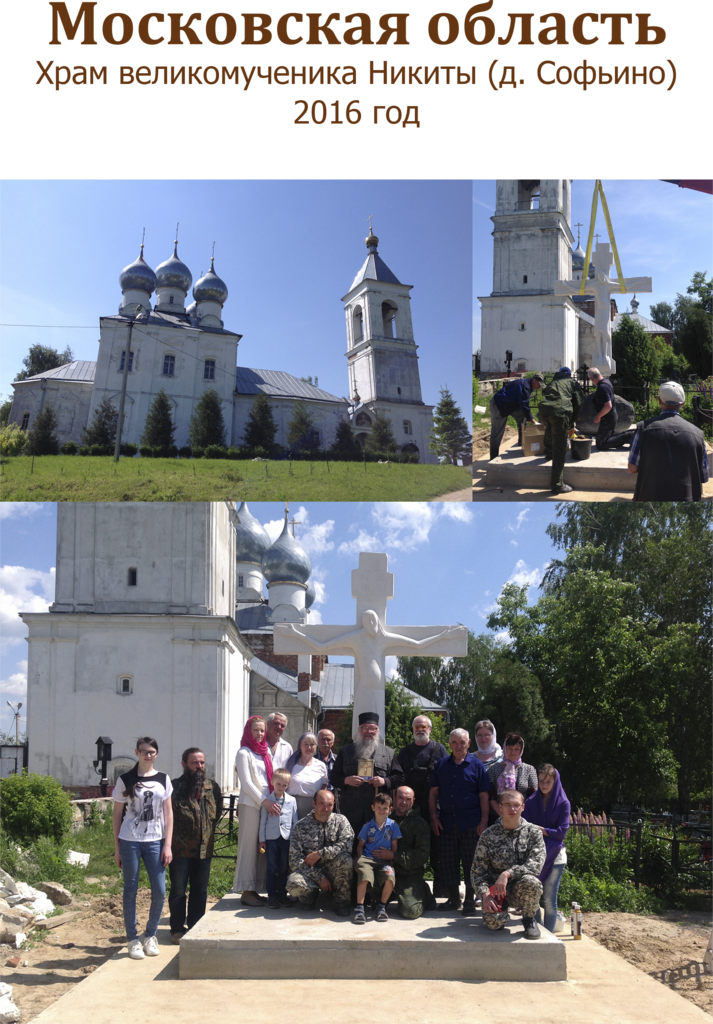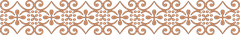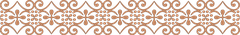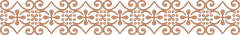1917 год. Грянула Февральская революция. Государь Николай II, глубоко порядочный человек и искренне верующий христианин, будучи горячим патриотом России, тем не менее отрекся от Российского престола.
Сделал он это с великой душевной скорбью и, как ему представлялось, лишь ради внутреннего умиротворения все более и более раскалывавшегося под влиянием разрушительных революционных идей общества. В принятии царем такого судьбоносного – и для него самого, и для страны – решения (о котором он сам впоследствии порой сожалел) не последнюю роль, конечно же, сыграло и непосредственное чувство духовного отвращения, вызывавшееся в нем анархически-безбожными, «демократическими» устремлениями и требованиями той немалой части «просвещенной публики», что все определенней склонялась к предательству нравственных ценностей христианства и православных идеалов Святой Руси. Недаром Николай записал в своем дневнике перед отречением: «Кругом измена, и трусость, и обман».

В акте отречения сказался, конечно же, довольно трезвый взгляд государя на общее состояние российского общества в тот момент.
Как совершенно верно отметил в одной из своих бесед с И. Шафаревичем М. Назаров, «состояние русского общества – включая даже верхи Церкви! – было таким, что революцию уже невозможно было предотвратить царскими решениями или физическими средствами (учтем также, что против русской монархии объединились все ее враги в мировом масштабе). Государь это почувствовал, как и то, что оказался не нужен своему народу в качестве Помазанника Божия, но не считал возможным принудить к этому свой народ силой – тем самым монархия лишилась бы своего духовного смысла. Вот в чем главная причина его отречения… То есть не царь предал свой народ, как все еще кто-то считает, а сам оказался предан, и поэтому его действия все же нельзя считать причиной революции и ставить в один ряд с разрушительной активностью интеллигенции…»[1].
Безусловно, немалое значение в выборе государем такого завершения своего царствования имело также и сознательное его стремление следовать пути тех христиан-страстотерпцев, что смиренно принимали, подобно святым братьям-князьям Борису и Глебу, мученические венцы во имя Христово и не желали (даже ради собственного земного спасения) проливать кровь своих соотечественников.
Эту черту его столь мирного духовного устроения он неоднократно проявлял и ранее – например, в период мятежей 1905 года, когда его действия против революционеров были, конечно же, излишне мягкими и слишком гуманными: бунты того времени уже тогда вполне могли перерасти в более серьезный революционный процесс, если бы не трезво-жесткая и политически абсолютно адекватная позиция Столыпина (с которой был в конце концов вынужден согласиться и Николай II) – с его быстрыми военно-полевыми судами над разбойниками, поджигателями имений и с вполне их достойными столыпинскими «галстуками» – виселицами.
Как известно, Николай II не мог даже решиться навести порядок в самом Петербурге (поскольку для этого нужно было применить силу, чего он не желал), когда там в январе 1905 года начались революционные демонстрации с участием революционеров-«боевиков» и провокаторов типа Гапона.
И тем не менее, когда солдатам Петербургского военного округа непосредственным их военачальником был отдан приказ рассеять толпу, то в «злодейском расстреле» якобы совершенно «мирной демонстрации» обвинили самого государя! Однако факты говорят совсем о другом.
Когда несколько лет назад встал вопрос о причислении царя и царской семьи к лику святых мучеников, убитых большевиками, то специальной комиссией Московской Патриархии по канонизации было подготовлено (на основании изученных архивных материалов по событиям известного «9 января») следующее квалифицированное заключение: «Одним из наиболее распространенных аргументов против канонизации императора Николая II являются события 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге. В исторической справке комиссии по данному вопросу мы указываем: познакомившись вечером 8 января с содержанием гапоновской петиции, носившей характер революционного ультиматума, не позволявшей вступить в конструктивные переговоры с представителями рабочих, государь проигнорировал этот документ, незаконный по форме и подрывающий престиж без того колеблемой в условиях войны государственной власти. В течение всего 9 января 1905 года государь не принял ни одного решения, определившего действия властей в Петербурге по подавлению массовых выступлений рабочих. Приказ войскам об открытии огня отдал не император, а командующий Санкт-Петербургским военным округом (государю, находившемуся тогда с семьей под Петербургом, 9 января даже не соизволили доложить о начавшейся в столице эсеровской революционной провокации! – д. Г.М.). Исторические данные не позволяют обнаружить в действиях государя в январские дни 1905 года сознательной злой воли, обращенной против народа и воплощенной в конкретных греховных решениях и поступках»[2].
Вообще относительно характера Николая II совершенно верно замечено: «Он был человеком мягким, но не слабым, а скорее даже непоколебимым – там, где ему не позволяли поступить иначе христианские принципы. Он не был способен на расчетливый компромисс и интригу. В политике, как и в жизни, он руководствовался чистой совестью. <…> Даже сдержанный историк Г. Катков, проводя верную параллель с образом князя Мышкина (известного персонажа романа Ф. Достоевского «Идиот». – д. Г.М.), отметил в личности императора “некий элемент святости”, веру “в некую как бы волшебную и неизбежную победу справедливых решений просто в силу их справедливости. А это ошибка, так же, как ошибочно верить, что правда восторжествует среди людей просто потому, что она – правда. Это ложное толкование христианской этики есть корень нравственного разоружения…” Отсюда, по мнению Каткова, – и общественные беды России[3]. Но такой упрек в “разоружении” можно сделать многим святым (и Самому Христу)… Вряд ли это уместно, ибо победное значение святости действует на духовном, а не на политическом уровне. И оно становится очевидным не сразу. Возможно, на этом уровне для России было бы гораздо хуже не иметь такого государя»[4].
Однако именно в такой личной (в том числе – и государственно-политической!) искренности Николая тем более «можно видеть, – как продолжает тот же автор, – роковую неизбежность революции: честные политические шаги русского царя, продиктованные побуждениями его христианской совести, вели к ускорению катастрофы»[5].
Все сказанное здесь, конечно же, верно и справедливо, но это все-таки лишь одна сторона правды…
В состоявшемся тогда крушении России (именно крушение монархии и привело к обрушению самой России в большевицкую пропасть) значительную роль все-таки сыграло и отсутствие в Николае II несгибаемой монархической воли и чувства неотменяемой никем и ничем государственной ответственности – как монарха, чья власть освящена Церковью. Иначе говоря, власть государя – как Помазанника Божия – дается ему Самим Господом и не может быть отдана никому! По сути, Николай не имел не только духовного, но даже и юридического права (согласно своду основных законов Российской империи) на отречение от престола – тем более всего лишь личным своим решением. (Как указывает сенатор Н. Корево в своем исследовании «Императорский Всероссийский престол» (Париж, 1922): «В российских основных законах отречение царствующего императора вовсе не предусматривается. Отречение же до занятия престола считается возможным, но принципиально лишь тогда, когда за сим не предстоит никакого затруднения в дальнейшем наследовании престола» и когда царствующий государь разрешает и санкционирует такое отречение; «с религиозной же точки зрения, отречение монарха Помазанника Божия является противоречащим акту священного его коронования и миропомазания». – см.: С. 26, 38, 42!)
Проникновенные, умные и скорбные строки посвятил этой постигшей тогда Россию исторической трагедии принципиальный, но очень трезвый монархист Иван Ильин, чьи высказывания на данную тему вновь будет весьма полезным процитировать здесь – как образец предельно трезвой оценки всего случившегося. Вот что пишет он по поводу, так сказать, объективных причин принятия государем решения об отречении:
«Почему тысячелетняя форма государственного спасения и национально-политического самоутверждения могла исчезнуть с такой катастрофической легкостью от первого же порыва народного, уличного и солдатского бунта?

К сожалению, как представляется, революционный напор извне и постепенный переход самого Николая II на, так сказать, более личностно-интеллигентские позиции, психологически всегда весьма расслабляющие и разъедающие в государственном человеке высшие требования его «государственнического» долга, ослабил и у него, а вслед за ним – и у всей династии Романовых, «веру в свое призвание, поколебал в ней волю к власти и веру в силу царского звания, как будто бы ослабело чувство, что престол обязывает, что престол и верность ему суть начала национально-спасительные и что каждый член династии может стать однажды органом этого спасения и должен готовить себя к этому судьбоносному часу, спасая свою жизнь не из робости, а в уверенности, что законное преемство трона должно быть во что бы то ни стало обеспечено»; однако «…династия в лице двух государей не стала напрягать энергию своей воли и власти, отошла от престола и решила не бороться за него. Она выбрала путь непротивления и, страшно сказать, пошла на смерть для того, чтобы не вызвать гражданской войны, которую пришлось вести одному народу без царя и не за царя…
Когда созерцаешь эту живую трагедию нашей династии, то сердце останавливается и говорить о ней становится трудно. Только молча, про себя вспоминаешь слова Писания: “яко овча на заклание ведеся и яко агнец непорочен прямо стригущаго его безгласен”…
Все это есть не осуждение и не обвинение, но лишь признание юридической, исторической и религиозной правды». Большевики же, со своей стороны, будучи преисполнены дьявольского активизма, «готовы были проиграть великую войну, править террором, ограбить всех и истребить правящую династию не за какую-либо вину, а для того чтобы погасить в стране окончательно всякое монархическое правосознание.
Грядущая история покажет, удалось им это или нет».
И все-таки оценка Иваном Ильиным акта отречения государя имеет в своей основе преимущественно государственнически-правовую сторону этого трагического события – так сказать, непосредственно связанную преимущественно с внешней, политической «злобой дня».
О более же внутренних, идейно-глубинных, сугубо духовных и вневременных основаниях этого акта весьма точно высказался известный московский протоиерей, глубоко убежденный монархист отец Александр Шаргунов:
«Смысл отречения государя – спасение идеи христианской власти. И потому в нем надежда на спасение России, через отделение тех, кто верен данным Богом принципам жизни, от тех, кто неверен, через очищение, которое наступает в последующих событиях.
Подвигом царя в отречении развенчиваются все ложные устремления тогдашних и нынешних устроителей земного царства, отвергающих Царство Небесное. Утверждается высшая духовная реальность, определяющая все сферы жизни: первое должно стать на первом месте, и только тогда все остальное займет свое должное место. На первом месте Бог и правда Его, на втором – все остальное, в том числе монархия, даже если она именуется православной».
В принятии государем решения пойти на отречение немаловажную роль сыграло и всеобщее предательство генералитета, также соблазненного тогда «демократической» демагогией революционно настроенной интеллигенции (в том числе и «думцев»); и чрезвычайно, в частности, показательно, что из всех тогдашних генералов верность воинской присяге царю сохранил только один – благороднейший, подло убитый впоследствии петлюровцами, генерал-лейтенант, граф Ф. Келлер. Показательно, что когда после февральских событий 1917 года барон К. Маннергейм уговаривал его «пожертвовать личными политическими убеждениями для блага армии», то встретил со стороны Келлера твердый ответ: «Я христианин. И, думаю, грешно менять присягу». Неудивительно, что и в его предсмертном дневнике сохранились такие слова: «Мне казалось всегда отвратительным и достойным презрения, когда люди для личного блага, наживы или личной безопасности готовы менять свои убеждения, а таких людей громадное большинство».
Вскоре, однако, многим из этих генералов-предателей самим пришлось вкусить все те прелести «свободы», ради которой (и ради якобы спасения России) они подталкивали царя к отречению.
Уже через четыре с половиной года после большевицкого переворота церковный историк Н. Тальберг писал о некоторых из них: «Алексеев бесславно умер, убедившись в падении России, у которой отняли царя, и развале армии, лишенной Верховного Главнокомандующего. Брусилов, пройдя через унижения перед Керенским, раненный во время восстания большевиков, в мирной обстановке кабинета, влетевшим в комнату снарядом, вынужден теперь служить у них. Эверт умер. Адмирал Непенин погиб в первые же дни бунта. Рузский был замучен большевиками. Родзянко, пользующийся всеобщим презрением, блуждает по Сербии.
И невольно вспоминаются слова из молитвы за царя: “Господь гневом Своим смятет я (то есть «их» (церк.-славянск.). – д. Г. М.), и снесть их огнь” (Пс. 20)».
О слишком поздно пришедшем понимании всей страшной сути переворотов 1917 года ярко свидетельствуют, например, исполненные горького раскаяния строки из дневника знаменитого героя Первой мировой войны генерала Брусилова (написанные им в России уже на закате дней): «Я… глубоко верую и твердо знаю, что не сатанинским пигмеям (красным ораторам) вытравить веру Христову из нас…
У меня были завязаны глаза, я считал долго русскую революцию народной, выражением недовольства масс против старого порядка… Теперь я прозрел. Это… вопрос, поставленный ребром о всей христианской культуре всего человечества! Гонение на Церковь, на лучших духовных лиц, развращение детей и юношества, искусственная прививка им пороков, приучение детей к шпионажу (в школах выспрашивание у малолетних, есть ли дома иконы, ходят ли родители в церковь, вспоминают ли старину), разрушение семьи – это все русскому рабоче-крестьянскому народу не нужно. (Как не нужно и разрушение старинных кладбищ и памятников, стоящих там на могилах более сотни лет…) Это необходимо антихристовым детям, каковы и есть большевики-коммунисты, руководимые еще более высокой инстанцией черной силы врагов Христа… Одна у меня мольба к Богу: избавить нас от антихристовых детей, одна надежда, что Христос не может быть побежден сатаною, и этого не будет!.. Но наказаны мы сильно по грехам нашим и должны еще много претерпеть».
О разрушении России скорбел в конце жизни – удивительно, но факт! – даже «герой революции» Буденный, о чем свидетельствует один из священнослужителей Церкви, участник Великой Отечественной войны диакон Николай Попович, сообщающий о том, что «…внучка маршала Буденного, моя крестница, рассказывала, что в конце жизни ее дед надевал мундир хорунжего с четырьмя Георгиевскими крестами (он был полный Георгиевский кавалер!), читал Библию (а не «Капитал» Маркса!), плакал и сокрушался: “Что мы наделали?” Очевидно, оплакивал свои заблуждения…».
Не может, конечно же, быть случайностью то, что именно в самый день отречения государя – 2 (15) марта 1917 года в селе Коломенском, тогдашнем ближайшем Подмосковье, в подвале известной древней Вознесенской церкви была обретена весьма известная ныне икона Божией Матери «Державная». Обретение ее состоялось после того, как крестьянке Евдокии Адриановой дважды являлась во сне Богоматерь, сказавшая ей: «Есть в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно взять и сделать “красной” (церк.-славянск. – красивой: то есть освободить из-под вековой копоти красоту святых ликов Марии и Богомладенца Христа. – д. Г.М.). Пусть молятся».
Как удалось впоследствии установить, первоначально эта икона принадлежала московскому женскому Вознесенскому монастырю, но во время нашествия Наполеона в 1812 году была спрятана в Коломенском, где затем и осталась.
В 1929 году Вознесенскую церковь большевики закрыли, а чтимую икону Божией Матери «Державная» заточили в запасниках Исторического музея (как памятник иконописи рубежа XVIII–XIX веков). И лишь 27 июля 1990 года, с началом крушения большевизма в России, этот находившийся в столь долгом плену святой образ Пресвятой Девы вернулся наконец в Коломенское. Сейчас он хранится в здешней церкви XVII века – в честь Казанской иконы Божией Матери.
Царственный образ Богородицы, восседающей на престоле, держава и скипетр в Ее руках – все эти знаки власти и притом нетрадиционный для богородичных икон алый цвет одежд (скорее царской порфиры, чем традиционного мафория) как бы особо указывали на то, что отныне, с уничтожением монархии в России, Сама Матерь Божия становится Царственной Возглавительницей Святой Руси – страны, вступившей на путь мученичества за веру Христову.